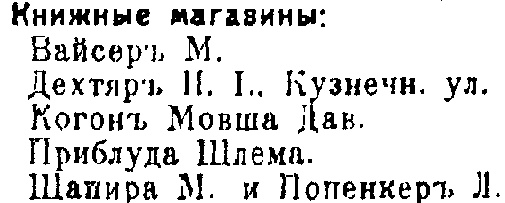
Из справочника (г.Балта), 1914 г.
АБРАМ ПРИБЛУДА
ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ (ВОСПОМИНАНИЯ)
IV. СЕМЬЯ
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Писать мемуары, должно быть, нелегкое дело. Я сам тому живой пример и свидетель. Собрался я вот, написать воспоминания, вывел первые два слова и ... уже остановился. Откуда идет моя родословная? Мы не ведем свой род от каких-нибудь графов Потоцких и даже не от именитых купцов Бродских - Высоцких, чтобы иметь родословное древо. Впрочем, знатность происхождения у евреев, как вы знаете, вообще определяется не орлами и медведями и не чайными или сахарными этикетками. Цепочки еврейского "ихеса" /родовитости/ восходят к ученым талмудистам и раввинами, а в России также к прославленным цадикам Подолии и Литвы.
По народному преданию, есть у евреев еще одни вид ихеса, не потомственного. К этому роду знатных в каждом поколении принадлежат 36 праведников, жизнью и делами которых держится мир. Но их имена и послужные списки хранятся в небесной канцелярии за семью замками в папках "с.о.в." и никому из смертных они неведомы.
В нашей родословной нет ни знаменитых раввинов ни святых цадиков. Я это говорю не потому, что собираюсь что-то скрывать от любопытных глаз и ушей. Я не должен доказывать разным лицам и органам, что отец мой был рабочим, а мать - прачкой. Папа действительно был переплетчиком. Жил он в городе Балта, бывшей Подольской губернии и с малых лет до самой смерти в 1943 году в Балтском гетто переплетал книги и документы без различия языка, возраста и исповедания. Правда, лет 10 он еще приторговывал книгами и школьными принадлежностями и думал даже разбогатеть. Но номер не вышел, и он не очень этим огорчался.
Мать моя была все годы прачкой и кухаркой, немножко - швеей и к тому еще хорошей мамой. Варила вкусные обеды на субботу и на праздники, шила нам рубашки и штанишки, стирала и учила нас честности и уму-разуму.
Мой дедушка с материнской стороны, Шая-Мойше был в молодости крестьянином. Происходил он из колонистов еврейской колонии Маншурово, основанной в 1851 году вблизи местечка Кривое Озеро, Балтского уезда еврейскими поселенцами. Другой мой дед Аврум, именем коего нарекли меня при обрезании, служил на сахарном заводе в м. Хащевата, принадлежавшем еврейскому барону. Был такой барон в царской России, звали его Гораций /по-еврейски - Гецл/ Гинсбург. Титул барона он получил не в России: он был ему пожалован в качестве особой милости каким-то мелкопоместным владетельным герцогом в Австрии в награду за оказанные ему денежные услуги /вернее это была прикрытая торговая сделка/. Служащий - это, конечно, не рабочий. Но, как учит Карл Маркс и как повторяет за ним Аркадий Райкин, это тоже пролетарий, так сказать, умственного труда, не первого, но второго сорта. Роднило же этого дедушку с рабочими и крестьянами то, что он тоже был бедняк и тоже многосемейный.
Кто были мои более отдаленные предки? Верьте, не верьте, сам не знаю. Если не считать прапраотцев Авраама, Исаака и Якова, живших еще в период Первого Всемирного Потопа, я о них ничего рассказать не могу. Знаю только, что это были простые местечковые евреи. Если биография их все же интересует, могу вас отослать к сведущим лицам, нашим хорошим знакомым, с которыми не мешало бы поближе познакомиться. Зовут их Шолом-Алейхем и Ицхок Лейбуш Перец. Живут он в сердцах всего нашего поколения и часто их можно видеть мирно почивающими на полках в библиотечных шкафах.
Родных отца я никогда не знал и не видел. Как-то роясь в старых папиных бумагах /мама хранила их завязанными в белом платке в шкафу среди белья/ среди старых метрик и квитанций многолетней давности, вышедших в тираж лотерейных билетов, писем и прочих реликвий, я наткнулся на пожелтевшую от времени визитную карточку. Верхний правый уголок был для изящества загнут. На карточке тремя затейливыми шрифтами разной величины и жирности было отпечатано:
Абрам Соломонович
ПШИЯЦЕЛЬ-ПРИБЛУДА
м. Хащевата
"Это, - объяснил папа,- твой дедушка. Прозвали его по-польски ПШИЯЦЕЛЬ, т.е. приятель, за его добродушие и приветливый характер."
Странная была у Хащеватовского деда причуда напечатать себе визитные карточки на русском языке в восьмидесятые годы прошлого столетия в глухом еврейском местечке, где подозрительно и ревниво относились ко всему нееврейскому: к пище, одежде, обычаям, языку.
О своей маме отец никогда не рассказывал. Из скудных рассказов его мы знали, что в семье было шестеро детей от двух мам, что жилось трудно, что младший брат Лейзер потерял ногу в русско-японскую войну и приделал себе взамен нее березовую. Была у них старшая сестра Ента, умная и энергичная девушка. Она уехала с другим братом от мачехи и нужды в Аргентину и скоро перетащила остальных детей. Жили они вначале в колонии с испанским названием Кордова, затем брат Исаак переехал в Буэнос-Айрес, обзавелся там бакалейной лавкой и семьей, а впоследствии и собственным домом. В общем преуспели и сына своего тоже вывел в адвокаты республики Аргентины.
Из всех родных у отца остался в России какой-то двоюродный дядька Фраерман. Жил он в Умани, но папа с ним, как и с аргентинцами не переписывался.
Почему дядька Фраерман, а мы - Приблуды? Оказывается, что и он, папа, точнее, не он сам, а его дед или прадед был Фраерман. Но... и тут папа рассказал нам занятную историю, откуда есть пошла наша странно звучащая фамилия.
Было это во времена оны, в царствование Николая I. Задумал царь уравнить евреев с остальными поддаными в отбывании царской службы. Повелел набирать рекрутов ежегодно и обучать военному делу. Служба продолжалась 25 лет и часто сопровождалась принудительным крещением, отпадением от еврейства. И вот прадед из боязни рекрутского набора расписал своих сыновей по разным еврейским общинам. /Семья с одним сыном не подлежала рекрутскому набору./ Остался уманский потомок Фраерманом, а наш прадед, приписанный к мещанскому обществу близлежащего местечка Терновка, стал прозываться Приблуда, то есть, неизвестно откуда появившийся, приблудившийся. Когда я подрос и мне случалось знакомиться с особами прекрасного пола, мне не раз приходилось краснеть или вгонять девицу в краску, называя ей свою фамилию. Не мог же я при первом знакомстве с девушкой пускаться в исторические экскурсы и объяснять ей исторические условия, причины и происхождение столь неблагозвучного прозвища.
Рассказ папы звучал страшной сказкой. Он рассказывал о каких-то "хапунах", которые гнались среди бела дня и ночью за маленькими мальчиками, "ловили" их, как птичек и отдавали "поймаников" в солдаты. В казармах детей мучили, заставляли есть свинину, ходить в церковь, но многие не подчинялись и умирали "во славу Божию". Увы, эта страшная папина сказка оказалась, как я узнал позже, страницей из истории еврейских кантонистов в России, оставившей по себе тяжелую память в народе.
Уже будучи студентом в 1919 году, я слушал в деникинской Одессе в зале Одесского Художественного Собрания народную песню кантониста в исполнении Эпельбаума. Вспоминая теперь эту песню через 41 год, я снова как в рамке телевизора, вижу игру-пение талантливого певца, слышу слова песни и грустный мотив:
" Аврум, Аврум,
Аврум, Аврум,
Аврум, Аврум,
Батько наш!
Чом ты не бачиш,
Чом ты не просиш,
Чом ты не молиш
Боrа за нас?
Штобы Он нас выкупыв,
Штобы Он нас вызволыв
/пауза/
ВУИН? /куда?/
Леарцейну наш! /в страну нашу/
Широкоплечий согбенный николаевский солдат за долгие годы царской казармы уже забыл родной язык, но не забыл впитанной в детстве молитвы, обращенной к праотцам Аврааму, Исааку и Якову. Вспоминая синагогальный мотив, он своими словами излагает свое горе и просит праотца о заступничестве. Но слова не те. Не дойдут. Он силится вспомнить слово, которое дошло бы. Наше. И боль еще сильнее. Он озирается, ищет ответа. Слушатели молчат. В уме возникают образы только пережитых ужасов: Петлюра... Заболотный ... волчанцы... И все это - в одном слове артиста: "Вуин?" Но - солдат выпрямляется, в глазах радость верующего. Лицо неузнаваемо преобразилось. /Какой талант преображения!/ Он добыл в тайниках мозга слово из Хумеша, клятвенное обещание Боrа Аврааму, когда Он повелел ему: "Иди из страны своей в страну, которую я укажу тебе". "Леарцейну наш!" "Есть же великий еврейский Боr! Должна же, наконец, наступить справедливость! Должен прийти Мессия!"
Грустные воспоминания. Не лучше ли, по совету Шолом-Алейхема, немного и посмеяться. "Врачи рекомендуют смеяться" Свой рассказ о папиной родне я тоже закончу весело.
Мне было 9-10 лет, когда однажды к нам заявился щеголеватый молодой человек и представился дальним родственником из м. Хащевата. Худенький, щупленький. На голове - модная соломенная шляпа-канотье. На белой манишке - черный галстук бабочкой, в руке - палочка. В узеньких щелках глаз - веселые искорки.
Приехал он в Балту призываться, так как здесь, говорят, "эксн-перфексн", есть возможность освободиться от служения царю-батюшке.
Это был весельчак от природы. Любил болтать, балагурить, смешить других и сам он хорошо смеялся. С нами, детьми, он сразу подружился, представившись "эксн-перфексн, алютн-секутн, мит а бантикл финфрынт" /спереди/. И как было не смеяться этой непонятной, но занятной абракадабре которую мы немедленно усвоили и которою тотчас же поделились со своими сверстниками? Сплетением пальцев он изумлял нас появлением на стене козы, волка; заливисто лаял щенком и рычал злым псом Барбосом. Мурлыкал и лизал себе лапку и, вдруг испугавшись собаки, становился на дыбки и фыркал. И нас он научил по-собачьи и по-кошачьи и по-петушиному. В сумерки мы под его дирижерством устраивали кошачий концерт, крича во весь голос на разные лады под ругань взрослых.
Получив синий билет, он оживленно рассказал, как было дело.
-- Ввели меня в присутствие и велели раздеться голым, ну, совсем голым, как идешь в баню попариться. За зеленым столом воинский начальник ус крутит, рядом исправник с пузом, как у беременной женщины, красный потный от жары, все время отдувается. Еще какой-то начальник и "мой" доктор.
-- "Ну, Гершко", говорит мне пузатый исправник, "будешь служить или не хочешь, как и все еврейчики?"
-- "Я", говорю, "Ваше высокоблагородие, готов служить, но я здоровьем слабый и сильно нервный".
Тогда доктор стал меня выстукивать. Постукал по груди, по животу, потом велел повернуться задом ко всему присутствию и опять стукал, потом пошел к столу и все стали между собой переговариваться.
- "Ну, говори, Шмерко, чем занимаешься", опять спрашивает меня тот, что с пузом, хороба ему в печенку.
-- А я, говорю, Ваше высокоблагородие, машины продаю. Какие машины? Швейные машины, говорю, компании Зингер. В рассрочку продаю. Могу и вам продать хорошую первоклассную машину Зингера. Будете платить мне по одному рублю в неделю".
Тут все присутствие рассмеялось, а сам воинский начальник мне и говорит: "Ступай, Берко, продавать свои машины, а в солдаты ты негоден. Вот когда будет война, будешь воевать! И дали мене синий билет. Смотрите вот он, холера им в бок. Во время войны, значит, я должен итти в солдаты и стрелять из ружья. Екс-микс-дрикс, Фоня мит дер бикс. Вот вы смеетесь. А к чему мне воевать? Что я, Фоня?
В молодые годы дедушка был колонистом. Он жил в еврейской колонии Мансурово, неподалеку от местечка Кривое озеро. Колония распалась и дедушка переселился в местечко. Стал работать приказчиком у лесопромышленников и много времени проводил в лесах. Это сказалось и на крепком здоровье дедушки, и на его характере, спокойном, склонном к созерцанию и мечтательности.
Я помню дедушку крепким стариком с вьющейся седой бородой и такими же вьющимися на голове и на висках седыми волосами. Когда он бывал дома (а это случалось по праздникам и субботам, реже - в будни), он носил черную традиционную "капоту", на голове под черным картузом виднелись края круглой плисовой ермолки. Дедушка молился в Бершадской синагоге, среди зажиточных и набожных евреев, не в пример отцу моему, который был прихожанином захудалой "клойз". Его субботний отдых был посвящен Боrу: утром молитве в синагоге, после обеда и сна - чтению очередной "седре" (главы из Пятикнижия), а вечером - третьей трапезе ("шолешидес") в синагогальном полумраке или мирному созерцанию и беседе во дворе. Это был простой человек. Никогда не задавал себе вопросов насчет справедливости, мирового порядка и отношений между людьми. Он твердо верил в незыблемость и правильность установленного Боrом на земле порядка, в предопределенность от Боrа всякого события в жизни, добра и зла. Будучи много лет приказчиком у местечкового богача реб Иосла и оставаясь всю жизнь бедняком, он всегда был доволен своей судьбой, не представлял себе, что можно жаловаться (кому?), роптать (на кого?), завидовать богатому или более успевающему. У каждого свой "мазл" (доля) , судьба каждого заранее определена свыше на всю жизнь.
С суковатой палкой в руке ходил он пешком из местечка в лес, из леса в местечко, летом и зимой, в зной и в стужу. Зимой во главе целого обоза крестьянских саней он развозил по домам покупателей дрова: бревна, вязанки поленьев и сухие ветки-гиляки. Они тянулись вереницей; за санями шагали с кнутами дядьки' в побуревших свитках и черных, с плешинками, смушковых кучмах, а дедушка бегал, суетился, забегал во дворы, вызывал хозяек, распоряжался, кому куда заезжать, бегал дальше, и так - до глубокой ночи, пока последние дядьки', усевшись в опустевшие сани, не исчезали во мраке затихшей улицы.
Этот простой и крепкий старик был одарен тонкой музыкальной душой, романтической, детски наивной. Он любил сидеть в летние вечера на завалинке или на траве и рассказывать истории из Пятикнижия с комментариями Раши, слышанные в вечерние часы в синагоге легенды из Талмуда или сказания о цадиках-чудотворцах. Он рассказывал, сам удивляясь и увлекаясь рассказанным, жестикулируя, меняя интонации голоса. А я лежал против него на траве и слушал с открытым ртом, слушал и переживал. Вместе с Самсоном и царем Давидом воевал с филистимлянами, вместе со стариком Матисьяху и его 5 могучими сыновьями Маккавеями прогонял Антиоха Эпифана из родной страны, восхищался Бар-Кохбой и его великим учителем, бывшим пастухом - рабби Акивой. Какой это был чудесный рассказ! Дочь иерусалимского богача, полюбившая простого пастуха, посылает своего любимого в Галилею, к великим ученым, веря, что он станет таким же великим, и тогда отец даст согласие на брак. Проходят годы, и вот, через семь лет, Иерусалим выходит встречать знаменитого рабби Акиву, идущего во главе 12 тысяч учеников. Сам знаменитый богач Калба Савуа преклоняет колени перед великим рабби, и тут дочь его узнает в этом ученом своего возлюбленного пастуха. Слава ученого затмила богатство и силу. И этот пастух-рабби вдохновляет одного из своих учеников поднять народ против римских легионов, борется и погибает со всеми восставшими в осажденной крепости Бетар.
Рассказы волновали, чаровали, проникали в душу и вязали крепкие узы любви и дружбы между седым стариком и робким, впечатлительным мальчиком.
Дедушка любил рисовать, вырезывать из дерева. Рисунки его были особые, непохожие на рисунки в книжках: львы, змеи, грифы, райские деревья, невиданные птицы, орнаменты, завитушки. Много лет спустя, рассматривая в музее немецкие средневековые гравюры, я узнал в рисунках Дюрера и Гольбейнов графические мотивы дедушки. На праздник Хануки дедушка писал и рисовал игральные карты. Я помогал дедушке писать еврейские буквы, выполняющие одновременно роль цифр, затем продавал колоду, по пять копеек простую и по десять - рисованную. Делал дедушка и ханукальные "дрейдлех" - четырехугольные юлы с вырезанными на каждой стороне буквами: гимл, эй, шин и нун. Лихим вращением большого и среднего пальцев загоняешь юлу на круг. Юла кружится, кружится, слабеет, теряет равновесие и валится набок. Иногда она кружится на одном месте, раскачиваясь, как еврей в "Шмойне-Эсри", и вдруг оседает как подкошенная. Падение юлы на "гимл" (г) приносило счатстливцу полный выигрыш, на "эй" - половину, падение на "шин" влекло проигрыш и на "нун" (н) - проигрыш наполовину.
На Тишебов - пост в день разрушения римлянами Иерусалима- дедушка вырезывал нам деревянные мечи. Мы ими опоясывались и шли на пустырь возле речки. Там в изобилии росли колючие кусты, татарник, крапива, и мы яростно расправлялись с ними, воображая себя борцами за отнятую свободу.
Но больше всего я любил дедушкины песни. Он любил молиться у амвона, чтобы в мелодии и звуках молитвы, иногда непонятной по содержанию, выразить себя, свою веру, упования, чувства, восторги. В последние годы жизни он даже стал профессиональным кантором. Он тонко чувствовал прелести разных мотивов и напевов, знал их множество и бывал суровым критиком или страстным поклонником заезжих канторов.
А как справлял дедушка пасхальный сейдер! Сияющим патриархом в белом халате "китле", вел он сейдер с начала и до конца в сплошном песнопении. Пасха вообще имела в нашей детской жизни особое очарование своей чистотой и торжественностью, обновками, вкусными "латкес" из мацевой муки, жареными на гусином сале кнейдликами, орешками. Но апогеем десткой радости и счастья бывало активное участие в праздновании дедушкой пасхального сейдера. Каждое движение имело особый смысл, каждый обряд исполнялся с серьезной торжественностью. Вот он встал во главе стола в белом китле, подпоясанном белым жгутом, перед расписной миской, на которой разложены символы праздника ("кааро"), - седой, красивый, могучий праотец. За ним встал папа, мама, дети, все. На протянутой руке он поднимает завернутые в белое полотенце три мацы и в торжественном речитативе приглашает всех нуждающихся и желающих вкусить с нами этот бедный хлеб, что ели отцы наши в земле египетской. Все стоя, фраза за фразой, повторяют это приглашение всем, всем, всем. За столом с нами стоит еще какой-то случайный гость - "ойрех", у которого нет своего дома и которому действительно некуда пойти в эту праздничную ночь. Сели, и самый маленький в семье задает дедушке недоуменные четыре вопроса "кашес": что тут происходит? И дедушка в том же речитативе об'ясняет: рабами были мы у фараона в Египте и вывел нас оттуда Госnодь Боr "сильной рукой, простертой десницей"; поэтому обязанность наша рассказать о выходе из Египта, и слава тому, кто больше и лучше будет рассказывать. Дедушка ведет рассказ, и все с ним; идут описания десяти египетских казней, которые в разгоряченной фантазии некоторых ученых мужей из "Агады" вырастают до 250. Затем - обильный ужин с пасхальным вином, настоянном на изюме. У детей свои пасхальные рюмочки, в которые и нам наравне со взрослыми четыре раза подливают сладкий напиток. После ужина - концертное отделение. Взрослые устали, но мы, дети, принимаем в нем самое активное участие под руководством талантливого, одухотворенного режиссера.
Дедушка умер в мае 1918 года, в дни следовавших один за другим петлюровских{1} погромов. Умер в течение часа, не болея. Умер, как говорили когда-то о такой смерти, как праведник, от поцелуя Божия. Боясь непрекращающегося бандитского террора, мы прятались в замаскированном погребе уже несколько дней. Издевательски цвела природа, двор покрылся густым зеленым ковром, солнце весело играло, оживленно прыгали воробушки на притихшем дворе. А мы, немытые, нечесаные, грязные, лежали в душных нишах, скрюченные, заживо похороненные, боясь громко слово вымолвить или кашлянуть, чтоб не привлечь случайно внимание рыскавших по городу бандитов.
Дедушка с нами в погреб не пошел. Он остался в дворовой кухне, в чуланчике, со своим талесом, сидуром и краюхой хлеба. Вдруг кто-то передал, что дедушка умирает. Я бросился из погреба и побежал в чуланчик. Дедушка лежал на досчатом узком топчане в с талескутеном поверх белой рубахи. Он меня уже не узнавал. Голова запрокинута, в губах лопались белые пузырьки
Седая голова всклокочена, шевелятся отдельные волоски на бороде. Один на один с умирающим, агонизирующим, я прислушивался к хрипам, смотрел на лопающиеся пузырьки. Вдруг меня охватил необ'ятный ужас: тело дедушки изогнулось, грудь поднялась, голова запрокинулась, словно неведомая сила рвется наружу. И сразу - все стихло. Только белые пузырьки продолжают лопаться в застывших губах.
Я выбежал из чуланчика и зарылся дикарем в темной погребальной нише.
НАШЕ ЖИЛЬЕ. ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Мы жили на центральной улице в полуподвалле. Три выложенные камнем ступеньки вели на площадку, над которой нависала веранда верхнего этажа. На площадке можно было укрыться от дождя и глядеть, как перед домом образуются лужи, как в них надуваются и лопаются пузыри. Вода тоненькими струйками начинала прыгать со ступенек и по углам просачиваться на площадку. Тогда надо было загораживать им путь, строя для этого земляные насыпи с откосом в сторону поверхности земли. В тротуарных канавах неслись черные от пыли потоки. Когда дождь затихал, по бурлящей воде можно было пускать в плавание бумажные лодочки. Но корабли быстро подмокали, получали опасный крен и один за другим терпели крушение.
С площадки две ступеньки вели в квартиру. Комната с окном по площадку была перегородкой разделена на две неравные половины. В первой размещалась мастерская отца, в задней, полутемной, спальня.
Вдоль окна стоял рабочий стол. На столе - книги, переплетные доски и инструмент, горшок с клейстером, баночка с клеем. Сбоку поднимала тонкий хобот угрюмая резальная машина. Чтобы обрезать края книг надо было навалиться животом на опущенный рычаг и давить на него что было сил. Нож врезался в бумагу, отрезал тоненькую лапшу, пока не упирался в деревянную линеечку на талере. Над окном и на стенах на полках лежали книги: голые, иногда порядком потрепанные, ждавшие очереди попасть на рабочий стол и под нож, и чистенькие, одетые в новые бумажные или коленкоровые переплеты, готовые вернуться к своим владельцам.
За перегородкой в полутьме стояли две деревянные кровати, доверху наполненные перинами, подушками и одеялами. Дверь из спальни открывалась во вторую жилую комнату. За ней находилась кухня с большой русской печью. В печи мама по пятницам пекла халу. В остальные дни недели отверстие печи было закрыто заслонкой. Обед варился на чугунной треножке, стоявшей перед заслонкой под дымоходом, в пузатых глиняных горшках и горшочках или в чугунке. Здесь же папа ставил к огню варить свой клейстер или разогревал клей.
Окна из жилой комнаты и кухни переглядывались с окнами соседнего дома, выходившими в переулок. Другая стена вдоль всей квартиры была глухая. Спереди к мастерской примыкала мелочная лавочка бабушки Фримы. За крошечной лавочкой вдоль квартиры тянулась "камора" -- сарай, куда вел ход из кухни. Здесь лежали горы мягких бумажных стружек - переплетных обрезков. Тут же складывались дрова, стоял ящик с пасхальной посудой, хранился домашний хлам. Зимой стояла покрытая камнями бочка с солеными огурцами. "Камора" служила также местом отбытия наказания для провинившихся детей. Устав от плача, я мог сквозь щелочки разглядывать, что творится в лавочке у бабушки Фрумы, мог забираться на снежные горы, зарываться в них с головой или устраивать себе из обрезков снежный буран.
Папа был переплетчиком невысокой квалификации. Не знаю, где он научился этому ремеслу, но он не мог угнаться за братьями Клейнман, которые выполняли всякую переплетную работу. В их мастероской, помещавшейся также на центральной улице, стояла большая резальная машина Краузе с колесом, было машина для резки картона, сшивальная машина для шитья блоков и тетрадей, были всякие приспособления и шрифты для теснения золотом и серебром. А у нас? Старая резалка с узким талером и смешным рычагом.
К папе захаживал молодой переплетчик, живший неподалеку в хибарке с женой и грудным ребенком. Это был рослый, здоровый детина. К его гренадерской фигуре как то не шли ни его профессия, ни нужда, ни робкий характер. Когда у него бывала работа, он приходил к папе одалживать переплетный инструмент или обрезать края переплетенных книг на нашей резалке. Он исчез из города так же внезапно, как и появился после отбытия военной службы, оставив жену с ребенком самим рассчитаться с нуждой. Говорили, что он уехал в Америку искать там счастья.
Из рассказов мамы я знал, что был у нас в городе еще одни переплетчик, веселый и разбитной Липа. Он женился на маминой дальней родственнице Цюне. Имел какое-то отношение к "политике", участвовал в самообороне во время погрома в 1905 году и затем уехал с женой в "Америку". От тети Цюни получались письма, что они живут в свободной стране, "делают жизнь" и советуют папе и маме последовать их примеру, чтобы навсегда избавиться от "Фони-квас" с его черными сотнями и черными делами.
Папа был всегда занят. Если он не работал, то бегал по заказчикам или искал каких-то приработков. Хорошо, когда он приносил для переплетения новые книги: разные там собрания сочинений, комплекты журналов "Нива", "Вестник Европы" или "Русское богатство". С ними папа быстро разделывался. Разнимал книги по листам, счищал сгибы от застывшего клея, пилкой делал на стоках сложенных листов три поперечных надреза и затем сшивал листы на станке. Станок представлял собой доску, в которую втыкались спицы. Когда книг было много, вместо спиц от доски к потолку натягивались три веревки. Сшитые листы густо смазывались столярным клеем. Когда он застывал, книги разнимались, по обоим концам оставлялись расплетенные веревочные косички. Молоточком корешки закруглялись, после чего книги одевались в белые рубашки-форзацы, к ним приклеивались картонные крышки и коленкоровые корешки. Наконец книга облекалась в нарядный цветной коленкор, а более простые - в пеструю мраморную бумагу-шпалер. Выставленные для просушки книги напоминали аккуратно одетых детей на прогулке в балтском бульваре.
Зато какая же была возня, когда приходилось переплетать старые растрепанные молитвенники, пожелтевшие Библии или замусоленные Псалтыри и Евангелия. Из надо было буквально оживлять. Разнять по страницам, правильно сложить их, чтобы не перепутать молитв, латать рваные места, щадя при этом по возможности буквы, потрепанные края укреплять продольными полосками по обе стороны полей, страницы склеивать, чтобы создать им искусственные корешки и сгибы, которые можно было бы сшивать. После такой операции закутанная в плотный картон и коленкор книга все равно напоминала старуху, которую одели в новую шубу, но которая и в новом одеянии с трудом передвигает ноги.
Переплетное дело плохо кормило. По выражению мамы, им можно было заработать только "воду на кашу". Папа начал приторговывать книгами: сначала покупал и продавал поношенные учебники, затем стал ездить в Одессу за новыми книгами. Одновременно он завел нечто вроде библиотеки. Выписывал ходкие журналы и книги, давал их напрокат читателям, которые охотно платили по три копейки за прочет новинки. Зато какая мне стала лафа! Я мог читать все подряд и без копейки денег!
Дела у папы пошли в гору. Когда же в городе открылась мужская гимназия и коммерческое училище, а земская управа стала расширять сеть начальных школ в уезде, основным занятием папы стала книжная торговля. Он завязал деловые отношения с петербургскими, московскими и варшавскими фирмами. Но и переплетного дела папа не оставил, хотя мастерская обслуживала уже теперь собственные нужды, а не заказчиков.
Мы переехали на другую квартиру, где был и двор, и погреб и чердак. Под магазин и мастерскую папа снял специальное торговое помещение из двух комнат с железными шторами.
|
Из справочника (г.Балта), 1914 г. |
В одни прекрасный день папа привез из Одессы новую резальную машину, приобретенную в рассрочку у одесского агента фирмы Краузе. Машина внушала уважение. Как силач Иоська, которого не могли сдвинуть с места четверо ребят, стояла она, мощная широкоплечая на чугунных четырех ногах, крепко привинченная к полу. На груди золотыми иностранными буквами вырезано ее имя: Карл Краузе. Лейпциг. В машину можно было сразу заложить две и три пачки книг, завинтить их прессом наглухо и раскрутить колесо. Плавно выдвигался сбоку блестящий стальной нож, гладко срезал кромку по всей длине талера и, сделав свое дело, уходил вверх, скрываясь от глаз. Моих сил не хватало, чтобы одной рукой раскрутить колесо, но ухватившись обеими руками и я мог разрезать любую пачку книг или тетрадей. Машина внушала уважение.
Через некоторое время у резальной машины появилась изящная подружка - чистенькая сшивальная машина. Я пристрастился к этой зеленой молодой красавице... Любил подолгу сидеть перед ней, касаясь ногами ее педалей. Одна непрерывно вращала тогда колесо, другая приводила в действие механизм. Верхняя губа прижималась к подставленному ей корешку книги или тетради. Острый укол зубчиков - и проволочка петелькой захватывала и затягивала отдавшуюся ей шейку с двух сторон.
Любил я и заправлять машинку и время от времени разбирать, чистить и собирать ее.
Вскоре я научился играть с машинкой, соревнуясь с ней с скорости. Спокойно и размеренно опускала и поднимала машинка свои зубки, а я сначала поспешно, а затем тоже уверенно убирал одной рукой прошитые книжки или тетради, а другой - мгновенно подкладывал ей новые из лежавшей рядом стопки.
Поступив в гимназию, я мог работать в мастерской только во время летних каникул. В это время в переплетной бывало много работы в связи с подготовкой к новому учебному году и выполнением подряда для земских школ. Кроме постоянного рабочего в мастерской работал тогда обычно еще сезонный рабочий, и мы вчетвером составляли одну рабочую бригаду, применяя принцип разделения труда и выискивая наиболее эффективные способы для ускорения и совершенствования рабочего процесса.
В один из жарких летних дней к нам нанялся на работу пришлый рабочий. Растрепанный, без шапки, в выцветшей темной блузе под пояском, в серых штанах и стоптанных башмаках, он производил впечатление "босяка". И действительно, он бродил по городам Украины, не задерживаясь подолгу на одном месте. Маленький, щупленький на вид, Вася оказался прекрасным переплетчиком. Работал скоро, чисто, красиво. Любо было смотреть, как он наклеивал на полотно географические карты, не допуская никакой неровности или вздутия. Ровно сложенные по изгибам после просушки карты с металлическими колечками по углам, отутюженные он ничуть не уступали тем, которые поступали от первоклассных московских фирм. Во время работы Вася любил петь. Репертуар его был унылый, все печальные каторжные песни: "Эх ты, доля, моя доля, доля горькая моя", "По диким степям Забайкалья".
В мастерской узнал я и силу революционной песни. Любил слушать и подпевать горьковские "Солнце всходит и заходит" и в особенности мрачную "Слушай":
Как дело измены, как совесть тирана
Осенняя ночка темна.
Чернее той ночи встает из тумана
Видением черным тюрьма.
Эти песни пел другой наш рабочий, социалист, человек железного телосложения и железной воли, возглавивший в 1919 Балтский ревком. Вливая ненависть к самодержавию, к палачам и угнетателям, песня вызывала желание действовать, бунтовать, бороться побеждать. Пели революционные песни обычно после работы, в сумерки, не зажигая огни, при закрытых дверях. Пели, словно исполняя таинственную службу, приобщаясь к святому делу борьбы за свободу.
Однажды приглушенно Б. запел новую запрещенную песню:
Вот опять палачи.
Сердце стонет... Молчи.
Уж на петлях качаются трупы.
Суровые звуки, страшные слова хватали за душу, бросали в дрожь.
Почему ж не теперь,
Когда царь, дикий зверь,
Задавил весь народ...
Напрасно папа шикал, просил прекратить пение "Не дай Боr, услышит кто-то и может плохо кончиться."
Проработав пару недель, Вася вдруг запил. Пропил все, что заработал и что имел. Когда он появился вновь, худой, босой и мрачный, он не захотел больше работать. Не помогли никакие уговоры и посулы. Взял расчет, купил на дорогу буханку хлеба, надел всученную ему мамой старую рубаху и зашагал по направлению к вокзалу, в поисках доли.